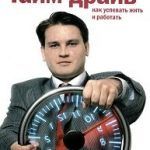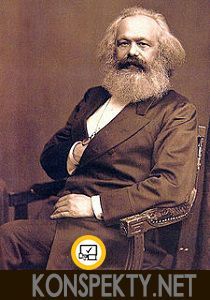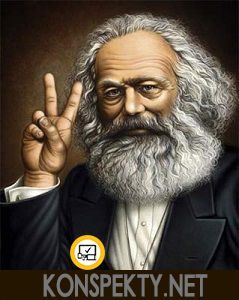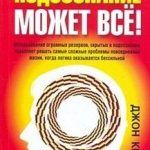В предисловии к первому изданию книги, написанному в 1934 году, я предпринял попытку объяснить — правда, боюсь, недостаточно развернуто — мое отношение к господствовавшей тогда в философии ситуации, и в особенности к лингвистической философии и школе аналитиков языка того времени. В этом новом предисловии я попытаюсь разъяснить мое отношение к современной философской ситуации и к двум основным современным школам аналитиков языка. Теперь, как и раньше, философы, занимающиеся анализом языка, очень интересуют меня, не только как оппоненты, но также как союзники, поскольку в наше время аналитическая философия, пожалуй, единственная философская школа, которая поддерживает традиции рационалистической философии.
В предисловии к первому изданию книги, написанному в 1934 году, я предпринял попытку объяснить — правда, боюсь, недостаточно развернуто — мое отношение к господствовавшей тогда в философии ситуации, и в особенности к лингвистической философии и школе аналитиков языка того времени. В этом новом предисловии я попытаюсь разъяснить мое отношение к современной философской ситуации и к двум основным современным школам аналитиков языка. Теперь, как и раньше, философы, занимающиеся анализом языка, очень интересуют меня, не только как оппоненты, но также как союзники, поскольку в наше время аналитическая философия, пожалуй, единственная философская школа, которая поддерживает традиции рационалистической философии.
Представители школы анализа языка полагают, что или вообще не существует подлинных философских проблем, или что философские проблемы, если таковые все же есть, являются всего лишь проблемами лингвистического употребления или значения слов. Я же, однако, считаю, что имеется, по крайней мере, одна действительно философская проблема, которой интересуется любой мыслящий человек. Это проблема космологии — проблема познания мира, включая и нас самих (и наше знание) как часть этого мира. Вся наука, по моему мнению, есть космология, и для меня значение философии не в меньшей степени, чем науки, состоит исключительно в том вкладе, который она внесла в космологию. Во всяком случае, для меня и философия, и наука потеряли бы всякую привлекательность, если бы они перестали заниматься этим. По общему признанию, понимание функций нашего языка является важной частью этих исследований, но ни в коем случае нельзя эти исследования сводить к объяснению наших проблем только как лингвистических «головоломок». Представители школы анализа языка полагают, что они используют на практике некоторый метод, присущий только философии. Я думаю, что они заблуждаются, и считаю верным следующий тезис: философы столь же свободны в использовании любого метода поиска истины, как и все другие люди. Нет метода, специфичного только для философии. Второй тезис, который я хотел бы предложить для обсуждения, таков. Центральной проблемой эпистемологии всегда была и до сих пор остается проблема роста знания. Наилучший же способ изучения роста знания — это изучение роста научного знания. При этом я не думаю, чтобы изучение роста знания можно было бы заменить изучением использования языка или исследованием языковых систем. И все же я готов признать, что существует некоторый метод, который мог бы быть определен как «некий общий метод философии». Однако он характерен не только для одной философии. Это скорее общий метод любой рациональной дискуссии, следовательно, он присущ естественным наукам не в меньшей степени, чем философии. Метод, который я имею в виду, заключается в ясной, четкой формулировке обсуждаемой проблемы и в критическом исследовании различных ее решений. Я выделил слова «рациональная дискуссия» и «критическое» с целью подчеркнуть, что я отождествляю рациональную установку с критической. Суть такого отождествления состоит в том, что, какое бы решение некоторой проблемы мы ни предлагали, мы сразу же самым серьезным образом должны стараться опровергнуть это решение, а не защищать его. Немногие из нас, к сожалению, следуют этому предписанию. К счастью, если мы сами не занимаемся критикой наших рассуждений, то критике подвергают нас другие. Однако их критика будет плодотворной только в том случае, если мы сформулировали нашу проблему со всей возможной ясностью и придали решению этой проблемы достаточно определенную форму, в которой его можно критически обсуждать.
Я не отрицаю того, что нечто подобное так называемому «логическому анализу» может играть не- которую роль в этом процессе уточнения и прояснения наших проблем и выдвигаемых решений этих проблем. Я, конечно, также не утверждаю и того, что методы «логического и лингвистического анализа» всегда бесполезны. Мой тезис скорее заключается в том, что эти методы являются далеко не единственными методами, которые философ может с успехом использовать в своих исследованиях, и что они ни в коем случае не являются специфическими только для философии. Они не более характерны для философии, чем для любого другого научного или рационального исследования.
В этом пункте меня, пожалуй, могут спросить: какие же еще «методы» может использовать философ? Мой ответ будет таков: хотя, по-видимому, и существует какое-то определенное число таких различных методов, перечислять их нет никакой нужды. До тех пор, пока перед философом (или любым другим человеком) стоит интересная проблема и он искренне пытается решить ее, безразлично, какими методами он пользуется. Среди многих методов, которые философ может использовать — конечно, каждый раз в зависимости от подлежащей решению проблемы, — один метод кажется мне достойным особого упоминания.
Это — некоторый вариант (ныне совершенно немодного) исторического метода. Он состоит, попросту говоря, в выяснении того, что же думали и говорили по поводу рассматриваемой проблемы другие люди, почему они с ней столкнулись, как формулировали ее, как пытались ее решить. Все это кажется мне существенным, поскольку представляет собой часть общего метода рациональной дискуссии. Если мы игнорируем то, что люди думают сейчас или думали в прошлом, то рациональная дискуссия должна иссякнуть, хотя каждый из нас может вполне успешно продолжать разговаривать с самим собой. Некоторые философы превратили в добродетель манеру вести обсуждение в одиночестве. Возможно, они чувствуют, что нет людей, достойных того, чтобы вести с ними беседу. Я боюсь, что практика философствования в такой весьма высокомерной манере может оказаться симптомом упадка рациональной дискуссии. Без сомнения, Бог, как правило, разговаривает только Сам с Собой, потому что у него нет никого, с кем стоило бы поговорить. Однако философ должен сознавать, что он нисколько не более богоподобен, чем любой другой человек. Широко распространенное убеждение в том, что так называемый «лингвистический анализ» является истинным методом философии, имеет несколько интересных исторических причин.
Одна из таких причин коренится в совершенно верном мнении о том, что логические парадоксы типа парадокса лжеца («Я сейчас лгу») или парадоксов, обнаруженных Расселом, Ричардом и другими, требуют для своего решения использования метода лингвистического анализа с его известным разделением лингвистических выражений на выражения, обладающие значением (или «правильно построенные»), и на бессмысленные выражения. Это верное мнение было соединено с ложной верой в то, что традиционные проблемы философии возникают из попыток решить философские парадоксы, структура которых аналогична структуре логических парадоксов. На этой основе утверждается, что различение между осмысленным и бессмысленным должно иметь главную ценность для философии. Ошибочность этого утверждения продемонстрировать не так уж трудно. Для этого достаточно обратиться к помощи логического анализа. Последний без труда покажет нам, что некоторого рода рефлексивность или самоотнесенность (self-reference), характерные для всех логических парадоксов, совершенно отсутствуют во всех так называемых философских парадоксах, даже в кантовских антиномиях.
Основной же причиной превознесения метода лингвистического анализа, по-видимому, является следующая. Пришло время, когда многие философы почувствовали, что «новый метод идей», предложенный Локком, Беркли и Юмом, то есть психологический, или, скорее, псевдопсихологический, метод анализа наших идей и их чувственного происхождения, следует заменить более «объективным» методом, менее связанным с генетическими факторами. Эти философы решили, что вместо «идей», «образов» и «понятий» следует анализировать слова, их значения и способы использования, вместо «мыслей», «мнений» и «взглядов» — суждения, высказывания и предложения. Я готов признать, что эта замена локковского «нового метода идей» на «новый метод слов» была несомненным прогрессом, и она в свое время была настоятельно необходимой.
Вполне понятно, что многие философы, видевшие в свое время в «новом методе идей» единственный истинный метод философии, могли при этом прийти к убеждению, что единственным истинным методом философии теперь является «новый метод слов». Я решительно не согласен с этим сомнительным убеждением. Приведу по его поводу только два критических замечания. Прежде всего, «новый метод идей» никогда не считался главным методом философии, не говоря уже о том, чтобы быть ее единственным истинным методом. Даже Локк ввел его только как метод для рассмотрения некоторых предварительных вопросов (предваряющих изложение науки этики), а Беркли и Юм использовали его в основном как орудие для ниспровержения взглядов своих противников. Их интерпретация мира — мира вещей и людей, — которую они стремились оставить нам, никогда не основывалась на этом методе. Он не был основанием религиозных взглядов Беркли или политических теорий Юма.
Самое же серьезное мое возражение против убеждения в том, что «новый метод идей» или «новый метод слов» являются главными методами эпистемологии, а может быть, по мнению некоторых, и всей философии, заключается в следующем.
К проблематике эпистемологии можно подходить с двух сторон: как к проблемам обычного, или обыденного, знания или как к проблемам научного знания. Философы, тяготеющие к первому подходу, совершенно верно считают, что научное знание не может быть не чем иным, как расширением обыденного знания. Однако они при этом ошибочно считают, что из двух указанных видов знания легче анализировать обыденное знание. Таким образом, эти философы стали заменять «новый метод идей» анализом обыденного языка, то есть языка, в котором формулируется обыденное знание. Они заменяют анализ зрения, восприятия, познания, убеждения анализом фраз: «Я вижу», «Я воспринимаю», «Я знаю», «Я считаю», «Я утверждаю, что это вероятно» или анализом, например, слова «возможно». Тем, кто признает правомерность такого подхода к теории познания, я отвечу следующим образом. Хотя я согласен с трактовкой научного знания как расширения обычного, или обыденного, знания, я считаю, что самые важные и наиболее волнующие проблемы эпистемологии должны остаться совершенно незамеченными теми, кто ограничивает себя только анализом обычного, или обыденного, знания или анализом способов выражения знания в обыденном языке.
В связи с этим я хочу сослаться на один из примеров проблем, которые я прежде всего имею в виду, а именно на проблему роста нашего знания. Небольшого размышления достаточно для того, чтобы понять, что большинство вопросов, связанных с ростом нашего знания, (18:) с необходимостью выходят за рамки любого исследования, ограниченного рассмотрением обыденного знания как противоположного знанию научному. Наиболее важный способ роста обыденного знания заключается именно в превращении его в научное знание. И, кроме того, ясно, что рост научного знания является самым важным и интересным примером роста знания.
При рассмотрении этого вопроса следует помнить, что почти все проблемы традиционной эпистемологии связаны с проблемой роста знания. Я склонен заявить даже нечто большее: от Платона до Декарта, Лейбница, Канта, Дюгема и Пуанкаре, от Бэкона, Гоббса и Локка до Юма, Милля и Рассела развитие теории познания вдохновлялось надеждой на то, что она поможет нам не только узнать не-что о знании, но и сделать определенный вклад в прогресс знания, то есть в прогресс научного знания. Большинство философов, которые считают, что характерным для философии методом является анализ обыденного языка, по-видимому, потеряли этот замечательный оптимизм, который в свое время вдохновлял рационалистическую традицию в философии. Их позицией, как мне кажется, стало смирение, если не отчаяние. Они не только оставляют прогресс знания на долю ученых, но и философию определяют таким образом, что она, по определению, лишена возможности внести какой-либо вклад в наше познание мира. Самокалечение, которого требует такое, казалось бы, убедительное определение философии, не вызывает во мне никакой симпатии. Нет вообще такой вещи, как некая сущность философии, которую можно было бы выделить и четко выразить в некотором определении. Определение слова «философия» может иметь только характер конвенции или соглашения. Во всяком случае, я не вижу никакой пользы в произвольном закреплении за словом «философия» такого смысла, который заранее мог бы отбить у начинающего философа вкус к попыткам внести свой вклад как философа в прогресс нашего познания окружающего мира.
К тому же мне кажется парадоксальным то, что философы, гордящиеся своей узкой специализаци- ей в сфере изучения обыденного языка, тем не менее считают свое знакомство с космологией достаточно основательным, чтобы судить о различиях философии и космологии и прийти к заключению о том, что философия по существу своему не может внести в космологию никакого вклада. Они, безусловно, ошибаются. Совершенно очевидно, что чисто метафизические — следовательно, философские — идеи имели величайшее влияние на развитие космологии. От Фалеса до Эйнштейна, от античного атомизма до декартовских рассуждений о природе материи, от мыслей Гильберта и Ньютона, Лейбница и Бошковича по поводу природы сил до рассуждений Фарадея и Эйнштейна относительно полей сил — во всех этих случаях направление движения указывали метафизические идеи. Таковы вкратце причины, побуждающие меня считать, что даже внутри самой эпистемологии рассмотренный первый подход, то есть (19:) анализ знания посредством анализа обыденного языка, слишком узок и неизбежно упускает ее наиболее интересные проблемы. Однако я далек от того, чтобы соглашаться и со всеми теми философами, которые придерживаются иного подхода к эпистемологии — подхода, обращающегося к анализу научного знания. Чтобы как можно проще разъяснить то, в чем я согласен с ними и в чем расхожусь, я разделю философов, использующих этот второй метод, на две группы — так сказать, козлищ и овец.
Первая группа состоит из тех философов, которые поставили своей целью изучение «языка науки» и в качестве философского метода используют построение искусственных модельных языков, которые, по их мнению, могли бы служить моделями «языка науки».
Вторая группа не ограничивает себя изучением языка науки или какого-либо другого языка и не имеет предпочтительного философского метода. Сторонники такого подхода используют в философии самые разнообразные методы, поскольку перед ними стоят весьма различные проблемы, которые они хотят решить. Они приветствуют любой метод, если только они убеждены, что он может помочь более четко поставить интересующие их проблемы или выработать какое-либо их решение, сколь бы предварительный характер оно ни носило.
Вначале я обращусь к рассмотрению взглядов тех философов, метод которых заключается в построении искусственных моделей языка науки. С исторической точки зрения они так же, как и сторонники анализа обыденного языка, отталкиваются от «нового метода идей», заменяя (псевдо-) психологический метод старого «нового метода» лингвистическим анализом. По всей вероятности, духовное удовлетворение, порождаемое надеждой на достижение знания, которое было бы «точным», «ясным» и «формализованным», заставило их выбрать в качестве объекта лингвистического анализа не обыденный язык, а «язык науки». К несчастью, однако, «языка науки» как особого объекта, по всей видимости, вообще не существует. Поэтому для них возникла необходимость построить такой язык. Построение же полноценной работающей модели языка науки —- модели, в которой мы могли бы оперировать с реальной наукой типа физики, — на практике оказалось несколько затруднительным, и по этой причине эти философы были вынуждены заниматься построением сложных рабочих моделей в миниатюре — громоздких систем, состоящих из мелких деталей.
По-моему, эта группа философов из двух зол выбирает большее. Концентрируясь на своем методе построения миниатюрных модельных языков, они проходят мимо наиболее волнующих проблем теории познания, в частности, тех проблем, которые связаны с прогрессом знания. Изощренность инструментов не имеет прямого отношения к их эффективности, и практически ни одна сколько-нибудь интересная научная теория не может быть выражена в этих громоздких, тщательно детализированных системах. Эти модельные языки не имеют никакого отношения ни к науке, ни к обыденному знанию здравого смысла.
Действительно, модели «языка науки», конструируемые такими философами, не имеют ничего общего с языком современной науки. Это можно показать на примере трех наиболее известных модельных языков. В первом из этих языков нет даже средств для выражения тождества. Следовательно, в нем нельзя выразить равенство, и, таким образом, он не содержит даже самой элементарной арифметики. Второй модельный язык работает только до тех пор, пока мы не добавляем к нему средства для доказательства обычных теорем арифметики, к примеру евклидовой теоремы о несуществовании самого большого простого числа или даже простейшего принципа, согласно которому для каждого числа имеется следующее за ним число. В третьем модельном языке — наиболее разработанном и более всего известном — опять-таки не удается выразить математику. К тому же, что еще более интересно, в нем невыразимы никакие измеряемые свойства. По этим и многим другим причинам данные три модельных языка слишком бедны для того, чтобы найти применение в какой-либо науке. И они, конечно, существенно беднее обыденных языков, даже наиболее простых.
Упомянутые ограничения были наложены на модельные языки просто потому, что в противном случае решения, предложенные их создателями для стоящих перед ними проблем, оказались бы несостоятельными. Это утверждение легко доказать, и частично оно было доказано самими авторами этих языков. Тем не менее все их авторы, по-видимому, претендуют на две вещи: (a) на возможность при помощи разрабатываемых ими методов так или иначе решать проблемы теории научного познания, то есть на их применимость к науке (тогда как фактически они применимы с удовлетворительной точностью только к рассуждениям весьма примитивного типа), и (b) на «точность» и «строгость» этих методов. Очевидно, что обе эти претензии не могут быть одновременно удовлетворены.
Таким образом, метод построения искусственных модельных языков не в силах решить проблемы, связанные с ростом нашего знания. Предоставляемые им возможности весьма ограниченны, даже по сравнению с методом анализа обыденных языков, так как такие модельные языки явно беднее обыденных языков. Именно вследствие того, что такие языки слишком бедны, в их рамках можно построить только самую грубую и несомненно вводящую в заблуждение модель роста знания — модель простого накопления множества высказываний наблюдения.
Обратимся теперь к взглядам последней из названных групп эпистемологов. В эту группу входят те философы, которые не связывают себя заранее каким-либо особым философским методом и в своих эпистемо-логических исследованиях предпринимают анализ научных проблем, теорий и процедур и, что самое важное, научных дискуссий. Эта группа в качестве своих предшественников может перечислить почти всех великих философов Запада. (Она может вести свою родословную в том числе даже и от Беркли, несмотря на то что он был по сути дела противником идеи рационального научного познания и боялся его прогресса.) Наиболее крупными представителями этого направления в течение двух последних веков были Кант, Уэвелл, Милль, Пирс, Дюгем, Пуанкаре, Мейерсон, Рассел и, по крайней мере на некоторых этапах своего творчества, Уайтхед. Большинство мыслителей, принадлежащих к этой группе, могли бы согласиться с тем, что научное знание является результатом роста обыденного знания. Однако каждый из них приходил к выводу, что научное знание изучать значительно легче, чем обыденное знание, поскольку научное знание есть как бы ясно выраженное обыденное знание. Основные проблемы, стоящие перед научным знанием, являются расширением проблем, стоящих перед обыденным знанием. Так, в области научного знания юмовская проблема «разумной веры» заменяется проблемой разумных оснований для принятия или отбрасывания научных теорий. И поскольку мы располагаем множеством подробных свидетельств о дискуссиях по поводу того, следует ли принять или, наоборот, отбросить некоторую теорию, например теорию Ньютона, Максвелла или Эйнштейна, постольку мы можем взглянуть на эти дискуссии как бы через микроскоп, что и позволяет нам детально и объективно изучать некоторые из наиболее важных моментов проблемы «разумной веры». При таком подходе к проблемам эпистемологии (как и при двух ранее упомянутых подходах) легко избавиться от псевдопсихологического, или «субъективного», метода, присущего «новому методу идей» (метода, который использовался еще Кантом). Данный подход предполагает анализ научных дискуссий и научных проблемных ситуаций. Таким образом, в рамках этого подхода появляется возможность понимания истории развития научной мысли.
До сих пор я пытался показать, что наиболее важные проблемы всей традиционной эпистемологии— проблемы, связанные с ростом знания, — выходят за рамки двух стандартных методов лингвистического анализа и требуют анализа научного знания. Однако менее всего я хотел бы защищать другую догму. Сегодня даже анализ науки — «философия науки» — угрожает стать модой, специализацией. Философу не следует быть узким специалистом. Что касается меня, то я интересуюсь наукой и философией только потому, что хочу нечто узнать о загадке мира, в котором мы живем, и о загадке человеческого знания об этом мире. И я верю, что только возрождение интереса к этим загадкам может спасти науки и философию от узкой специализации и от обскурантистской веры в особую компетентность эксперта, в его личные знания и в авторитет, то есть той самой веры, которая столь удачно сочетается с нашим «пострационалистическим» и «посткритическим» веком, с гордостью посвятившим себя разрушению традиции рациональной философии и даже самого рационального мышления.
Пени, Бэкингемшир, весна 1958 года (22:)